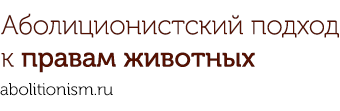Моральная ценность животных и забота об их благополучии
Практически невозможно найти человека, который отстаивал бы идею о том, что животные являются вещами, полностью лишенными моральной ценности и существующими за пределами морального и юридического сообщества. На самом деле почти все, включая людей, которые напрямую вовлечены в институциональное использование других животных, разделяют позицию, которая называется «велферизмом», заботой об их благополучии. Согласно этой позиции, жизнь человека имеет более высокую ценность, чем жизнь любых других животных, а следовательно их использование в качестве наших ресурсов морально приемлемо, если мы обращаемся с ними «гуманно» и не причиняем им страданий «без необходимости». Велферизм настолько широко распространен, что отражен даже в законах, которые подразумевают уголовное наказание за «жестокое» обращение с животными. В основном уголовное наказание применяется в случаях нарушения таких этических норм, с которыми безоговорочно соглашается подавляющее большинство населения. Я утверждаю, что статус животных в качестве собственности означает, что определение стандартов «необходимого» страдания и «гуманного» или «жестокого» обращения неизбежно связано экономической эффективностью их эксплуатации, что в результате приводит к тому, что законы о благополучии животных не могут обеспечить сколько-нибудь значимой защиты их интересов.
В данном эссе я рассматриваю основополагающую идею велферизма, согласно которой использование животных приемлемо, поскольку их жизни имеют меньшую моральную ценность, чем наши. Такую идею разделяют даже знаменитые философы, которые в остальном настроены весьма критически по отношению к статус-кво, определяющему наше обращение с другими животными. В первой части эссе я обсуждаю идею, которая присутствовала в велферистской теории с момента ее зарождения в девятнадцатом веке и согласно которой жизнь человека более ценна, чем жизнь других животных. Затем я рассуждаю о том, почему эта идея произвольна и необоснованна, а также кратко отстаиваю идею морального равенства между ценностью жизни человека и других животных в контексте обсуждения теории прав животных, которую я разработал в своих более ранних работах.
I
До девятнадцатого века животные считались вещами. Ни их использование, ни обращение с ними не поднимали этических или юридических вопросов. Некоторые люди, вроде французского философа Рене Декарта, заявляли, что животные не более чем созданные Богом «машины». Декарт отказывался признавать, что животные способны чувствовать. То есть он считал, что они не обладают чувственным восприятием и не способны ощущать что-либо, включая боль. Однако большинство людей было согласно, что животные чувствуют и обладают интересами — у них есть предпочтения, желания и стремления, а в особенности интерес в избежании боли и страданий. Тем не менее, мы могли игнорировать их интересы и обращаться с животными как с картезианскими машинами, поскольку они якобы отличаются от людей, будучи нерациональными, не обладающими самосознанием, не способными осмыслить абстрактные концепции, общаться символами, участвовать в этических взаимоотношениях с нами и, наконец, поскольку у них нет души. Не важно, считали ли мы, что животные ничего не чувствуют и что у них нет интересов, или считали, что чувствуют, но их интересы могут быть проигнорированы в силу предположительных когнитивных или духовных отличий между людьми и другими животными, суть не менялась: в обоих случаях мы не несли перед ними никаких прямых этических или юридических обязательств. Мы могли иметь обязательства, которые затрагивали животных, вроде обязательства не нанести вреда корове соседа, но это обязательство перед соседом, чьей собственностью была корова, а не перед самой коровой. Сосед мог иметь обязательство не причинять своей корове бессмысленных страданий, поскольку это могло сделать его менее добрым по отношению к другим людям. И вновь это обязательство перед другими людьми, а не перед коровой. Корова просто не имеет никакой этической или юридической ценности.
В девятнадцатом веке родилась велферистская теория, которая сменила доминирующую парадигму. Главными создателями этой теории были философы-утилитаристы Джереми Бентам и Джон Стюарт Милль. Утилитаризм является этической теорией, согласно которой правильность или неправильность действия определяется его последствиями. Правильными действиями являются те, в результате которых все, кого эти действия затрагивают, получают наибольшее количество удовольствия или счастья. Оценивая последствия, мы должны быть беспристрастными и с равным уважением рассматривать счастье каждого независимо от расы, пола, сексуальной ориентации, интеллектуальных и физических возможностей и т. п. Утилитаристы отвергают идею моральных прав, поскольку, как мы увидим далее, права защищают своего обладателя даже в том случае, если баланс последствий не располагает к этой защите.
Бентам и Милль заявляли, что беспристрастность включает в себя игнорирование биологического вида точно так же, как игнорирование расы или пола. Они утверждали, что даже если животные не рациональны, не обладают самосознанием или их разум еще как-либо отличается от человеческого, такие отличия не имеют значения в вопросе об этической приемлемости их страданий. Например, Бентам писал, что взрослая лошадь или собака более рациональны и более общительны, чем человеческий младенец, но «вопрос ведь не в том, могут ли они рассуждать? могут ли они говорить? но в том, могут ли они страдать?» Люди и другие животные могут во многом отличаться, но они относительно схожи в том, что способны чувствовать, они обладают чувственным осознанием и способностью испытывать боль и удовольствие.
Бентам и Милль выступали против существовавшего на тот момент расового рабства, поскольку, придавая более высокую ценность удовольствию и счастью белых в ущерб черным, оно нарушало принцип беспристрастности или принцип равного уважения. Они были верными сторонниками отмены человеческого рабства. Они видели сходство между рабством и тем, как мы обращаемся с животными, поскольку как рабов, так и животных, используют в качестве вещей. То есть и те и другие полностью исключены из морального сообщества и «безо всякого возмущения предоставлены любым капризам своих мучителей». По их мнению, равно как раса не оправдывает нарушение принципа беспристрастности и придание большего веса счастью белых, так и биологический вид не оправдывает игнорирование страданий животных.
Означает ли это, что Бентам и Милль призывали к отмене использования животных точно так же, как они призывали к отмене человеческого рабства? Нет. Они считали, что тот факт, что животные якобы не рациональны и их разум отличается от нашего, не означает, что мы можем игнорировать их страдания, но вполне позволяет нам использовать и убивать их ради своих целей, если мы при этом серьезно относимся к их интересам в избежании страданий. Согласно Бентаму, животные живут настоящим и не осознают, что теряют, когда мы забираем их жизни. Если мы убиваем и едим их, тогда «нам от этого лучше, а им никогда не хуже. У них нет наших долгих ожиданий будущих страданий». Бентам также утверждал, что, убивая животных, мы на самом деле оказываем им услугу, если делаем это относительно безболезненно: «Обычно их смерть от нашей руки более быстра, а значит и менее болезненна, чем та, которая неизбежно ждет их в природе, и мы всегда можем сделать ее более быстрой». Если Бентам был прав в том, что животные действительно не обладают интересом в продолжении жизни, а смерть не представляет для них вреда, тогда их убийство само по себе не является этической проблемой, если мы хорошо с ними обращаемся и убиваем «гуманно».
Кроме того, Бентам и Милль выступали против рабства не только потому, что оно ограничивало свободу людей, которые, в отличие от других животных, обладают самосознанием и заинтересованы в сохранении собственных жизней, но и потому, что они считали, что боль и страдания рабов имеют больший вес, чем удовольствие и счастье их хозяев. К животным подобный анализ не применялся. Согласно велферистам, мы можем минимизировать боль и страдания животных до такой степени, чтобы наше удовольствие имело больший вес. В поисках баланса между интересами людей и других животных было важно иметь в виду, что разум человека более развит, а потому людям доступны удовольствие и счастье более высокого качества. Наши интересы всегда имеют больший вес. Например, Милль утверждал, что при оценке удовольствий и боли в процессе поиска баланса, мы должны учитывать, что «человеческие возможности более возвышены, чем звериные желания». Он соглашался с этическими взглядами, которые «значительно выше ценят интеллектуальные удовольствия, связанные с чувственностью, воображением и моралью, нежели простые удовольствия от ощущений». Согласно Миллю, «существу с более высокими возможностями для счастья требуется больше, возможно, оно способно испытывать более острые страдания, и совершенно точно оно подвержено им в большем количестве вопросов. <…> Оно никогда не смогло бы пожелать опуститься до низших ступеней существования». Животные лишены «чувства достоинства, которым в той или иной степени обладают все люди». Кроме того, человеческий «интеллект более развит, что позволяет нам иметь более широкий диапазон чувств как по отношению к себе, так и к другим». Что приводит Милля к выводу: «Лучше быть недовольным человеком, чем довольной свиньей».
Так что несмотря на то, что утилитаристы, ответственные за возникновение движения за благополучие животных, утверждали, что принцип беспристрастности требует от нас учета интересов животных в процессе оценки последствий наших действий, их теория гласит, что животные не заинтересованы в сохранении своих жизней, а их интерес в избежании страданий имеет меньшую ценность, чем интересы людей. Животные имеют меньшую моральную ценность, чем люди. Таким образом, если мы обращаемся с ними «гуманно» и не причиняем им страданий «без необходимости», то можем обращаться с ними как с собственностью, использовать и убивать их в своих целях. Бентам и Милль чествовали законодательную деятельность, направленную на предотвращение «жестокого» обращения с животными. Законы против жестокого обращения и другие велферистские законы, существующие сегодня в Британии, Соединенных Штатах и большинстве других западных стран, напрямую связаны с британскими утилитаристами девятнадцатого века.
Идея о том, что другие животные имеют меньшую моральную ценность, чем люди, присутствует и в современной теории об их благополучии, которую я называю «новым велферизмом». Ключевой фигурой в этой теории сегодня является Питер Сингер. Он тоже утилитарист и утверждает, что этичность действий определяется тем, в какой степени они удовлетворяют предпочтения (в отличие от счастья или удовольствия) всех, кого эти действия затрагивают, включая животных. Но точно как Бентам и Милль, Сингер считает, что жизни животных имеют меньшую моральную ценность, чем жизни людей. Например, как и Бентам, он утверждает, что
Хотя самосознание, способность думать наперед, иметь устремления и надежды на будущее, способность к осмысленным отношениям с другими и так далее не имеют отношения к вопросу о допустимости причинения боли, <…> они имеют значение в вопросе о допустимости убийства. Разумно утверждать, что жизнь существа с самосознанием, способного к абстрактному мышлению, планированию будущего, сложному общению и так далее, имеет большую ценность, чем жизнь существа без таких способностей.
Согласно Сингеру:
Животные могут бороться за свою жизнь, даже если не могут уловить смысл обладания „жизнью“ так, как того требует понимание, что означает существование в течение отрезка времени. Но в отсутствие некоторой разновидности ментальной непрерывности будет непросто объяснить, почему потеря жизни убитого животного, с беспристрастной точки зрения, не может быть компенсирована созданием нового животного, которое проживет такую же приятную жизнь.
То есть Сингер, равно как и Бентам, утверждает, что смерть для животных не является вредом, поскольку они не знают, что теряют, если мы убиваем их. Они не заинтересованы в продолжении жизни. Их не волнует, что мы используем и убиваем их в своих целях. Их волнуют только страдания, которые мы им причиняем в процессе использования и убийства. Сингер называет себя «гибким веганом», который ест продукты животного происхождения во время путешествий, в гостях или в компании людей, которых может расстроить его отказ от употребления животных продуктов. Он заявляет, что если мы относимся к интересам животных в избежании страданий серьезно, тогда их использование может быть этически оправдано:
Если нас волнуют страдания животных, а не их убийство, тогда я мог бы представить себе мир, в котором люди в основном едят растительные продукты, но иногда балуют себя роскошью яиц свободного выгула, а возможно даже и мясом животных, которые прожили хорошие жизни в условиях, естественных для их вида, а затем были гуманно убиты на ферме.
Сингер считает, что мы должны одинаково обращаться с интересами людей и других животных в избежании страданий, как того требует принцип беспристрастности, который Сингер называет принципом равного уважения. Он заявляет, что люди обладают «высшими умственными способностями», а потому в некоторых случаях они будут страдать сильнее других животных, а в некоторых — слабее. Но он признает, что делать межвидовые сравнения в лучшем случае очень сложно или даже невозможно. То есть Сингер хоть и не соглашается с категорической позицией Милля о том, что интеллектуальные удовольствия человека почти всегда имеют более высокую ценность, его взгляды на страдания якобы «высшего» человеческого разума очень близки к Миллю и подрывают возможность непредвзятой оценки интересов.
Кроме того, будучи утилитаристом, Сингер обязан признать использование животных допустимым по крайней мере в некоторых условиях. Например, если люди получают огромное удовлетворение от поедания продуктов животного происхождения и производят их с минимальным количеством боли и страданий, тогда Сингеру придется признать институт использования животных этически приемлемым, особенно если смерть не является для них вредом. На самом деле, учитывая, что утилитаристы считают добром счастье, удовольствие, удовлетворение интересов и т. д., и учитывая, что люди наслаждаются использованием животных, создается впечатление, что если мы сможем обеспечить животным достаточно приятную жизнь и относительно безболезненную смерть, тогда мы будем морально обязаны разводить их в максимально возможных количествах, убивать их максимально быстро, разводить еще и убивать еще и так далее, чтобы максимизировать итоговое количество счастья, удовольствия или удовлетворения предпочтений во всем мире. В любом случае, как и Бентам с Миллем, Сингер не возражает против самого по себе использования животных. Он не призывает к отмене их статуса в качестве нашей собственности. Он верный сторонник реформ и улучшения их благополучия посредством регуляции использования.
Позиция Сингера, согласно которой животные не обладают самосознанием, а значит не заинтересованы в сохранении своих жизней, приводит его к выделению некоторых видов животных, с которыми он предлагает обращаться как с особенными или привилегированными. Сюда попадают те животные, которые ближе к людям, поскольку они по крайней мере в некоторой степени обладают самосознанием, которое относительно схоже с человеческим. Сингер был соавтором книги «Проект Человекообразные Обезьяны», в которой утверждается, что человекообразные обезьяны «обладают достаточными умственными способностями и эмоциональной жизнью для включения их в сообщество равных». Сингер утверждает, что поскольку эти животные генетически и когнитивно похожи на людей, значит они достойны более серьезной юридической защиты, чем другие животные, которые, по мнению Сингера, Бентама и прочих, живут в «постоянном настоящем».
Идея о том, что жизни животных имеют меньшую ценность, чем жизни людей, пронизывает велферистскую позицию, какой она была разработана утилитаристами вроде Бентама, Милля и Сингера. Но эту идею можно обнаружить и в теории прав животных, разработанной Томом Риганом. Он отвергает утилитаризм и велферизм. Он утверждает, что у нас нет морального оправдания для обращения по крайней мере со взрослыми млекопитающими животными исключительно как со средствами достижения наших целей. То есть он не опирается на меньшую моральную ценность других животных, чтобы оправдать их использование, как это делают Бентам, Милль и Сингер. Однако Риган утверждает, что в ситуации конфликта, вроде спасательной шлюпки, в которой мы должны спасти либо человека, либо собаку, мы должны выбрать человека, поскольку смерть представляет для него больший вред, чем для собаки. Согласно Ригану, «вред смерти является функцией от возможностей для удовлетворения, которые она закрывает». Смерть для животных «хоть и является вредом, но несравнимым с тем, каким она является для людей».
В итоге, несмотря на то, что велферисты, которые являются утилитаристами, утверждают, что правильность или неправильность действия определяется его последствиями, при оценке которых мы должны одинаково уважать схожие интересы людей и других животных, мы вполне можем использовать животных в качестве ресурсов, поскольку они не заинтересованы в своих жизнях и поскольку их интересы в целом имеют меньший вес, чем интересы людей. Другими словами, животные, по крайней мере в отличие от «нормальных» людей, не заинтересованы в том, чтобы не быть использованными в качестве ресурсов. Если мы обеспечиваем им достаточно приятную жизнь и относительно безболезненную смерть, тогда мы можем продолжать владеть ими и использовать их. Однако мы должны постараться делать это максимально «гуманно».
Велферисты считают, что жизни животных имеют меньшую моральную ценность, чем жизни людей. Они говорят о «роскоши» поедания мяса и других продуктов животного происхождения, о «гибком» использовании животных в ситуациях, в которых мы не используем людей. Учитывая, что велферисты не говорят о «роскоши» или «гибкости», когда речь заходит об убийстве людей, они должны утверждать, что между людьми и другими животными существуют этически релевантные отличия, которые делают использование животных морально оправданным. Если велферисты отказываются признать эти отличия, тогда их поддержка использования животных, каким бы «гуманным» оно ни было, это не более чем откровенная дискриминация по биологическому виду.
II
Велферистская позиция опирается на идею о качественной разнице между разумом людей и других животных. Прежде всего, эта идея противоречит теории эволюции, которая, по крайней мере согласно Дарвину, гласит, что отличия между людьми и другими животными количественные, а не качественные. Почти ежедневно, иногда в популярном журнале или газете, а иногда в уважаемом научном журнале, выходит статья о том, что разум животных подобен разуму людей во всех важных аспектах. Однако мы можем сделать допущение и согласиться, что раз уж люди, по крайней мере насколько нам известно, единственные животные, которые общаются символами и чьи концептуальные структуры неразрывно связаны с языком, значит между разумом людей и других животных скорее всего действительно есть значительные отличия.
Вопрос: «и что с того?»
Нет никаких оснований полагать, что какие-либо отличия между разумом людей и других животных означают отсутствие у последних интереса в продолжении существования или меньшую ценность их чувственного опыта. Не существует никакой необходимости в точном установлении природы разума других животных для оценки велферистской идеи о том, что смерть сама по себе не является для них вредом, поскольку они, в отличие от людей, живут в «постоянном настоящем», как называет это Сингер. Единственное необходимое условие — способность животных чувствовать. То есть иметь чувственное осознание. Без способности чувствовать невозможно обладать какими-либо интересами. Если существо ничего не чувствует, значит оно может быть живым, но нет ничего такого, что оно предпочитает, хочет или желает. Разумеется, у нас могут быть сомнения относительно наличия способности чувствовать в некоторых особых случаях или относительно особых классов существ, вроде насекомых или моллюсков. Но те животные, которых мы рутинно эксплуатируем — коровы, курицы, свиньи, утки, овцы, рыбы, крысы и др. — несомненно способны чувствовать.
Заявлять, что смерть не является вредом для чувствующего существа — любого чувствующего существа — крайне странно. В конце концов способность чувствовать развилась эволюционно не просто так. Она позволяет существам определять ситуации, которые могут нанести вред или угрожают выживанию. Способность чувствовать служит цели продолжения существования. Чувствующие существа заинтересованы в сохранении своих жизней, то есть они предпочитают, хотят или желают оставаться в живых. Таким образом, заявление о том, что смерть не представляет вреда для чувствующих существ, отрицает наличие у них того самого интереса, которому служит способность чувствовать. Это все равно что сказать, что существо с глазами не заинтересовано в зрении и слепота не представляет для него вреда.
Сингер признает, что «животные могут бороться за свою жизнь», но приходит к выводу, что это не означает, что они обладают ментальной непрерывностью, необходимой для осознания себя. Однако такая позиция является лишь попыткой уйти от вопроса, поскольку предполагает, что единственный способ обладать самосознанием — это обладать автобиографичным самосознанием, которым обладают здоровые взрослые люди. Но это лишь одна и далеко не единственная разновидность самосознания. Как отмечал биолог Дональд Гриффин, один из самых влиятельных когнитивных этологов двадцатого века: «само тело животного и его собственные действия должны попадать в сферу его осознанного восприятия». Но мы все равно продолжаем отрицать самосознание у других животных, поскольку, как мы утверждаем, они не могут «думать такие мысли, как „Это я сейчас бегу, или карабкаюсь по дереву, или ловлю бабочку“». Гриффин утверждает, что «когда животное осознанно воспринимает бег, карабканье или ловлю бабочек другими животными, оно должно осознавать, кто делает это. И если животное осознанно воспринимает свое тело, тогда сложно исключить аналогичное осознание, что это оно само бежит, карабкается или ловит.» Гриффин приходит к выводу, что, «если животные способны к чувственному осознанию, тогда отказ признавать за ними некоторое самосознание кажется произвольным и неоправданным». Похоже, что любое чувствующее существо должно обладать самосознанием, поскольку чувствовать что-либо значит осознавать, что эти чувства принадлежат именно этому существу, а не какому-то другому. Если чувствующее существо испытывает боль, оно неизбежно осознает, что это именно ему больно. Есть кто-то, кто осознает свою боль и хочет ее прекратить.
Мы можем увидеть произвольность велферистского допущения, если обратим внимание на людей с транзиторной глобальной амнезией, которая наступает в результате инсульта, эпилептического припадка или травмы мозга. Люди с транзиторной глобальной амнезией зачастую не могут запоминать прошлое и осознавать себя в будущем. Эти люди «ощущают себя в конкретном моменте — сейчас, и в конкретном месте — здесь». Их самосознание может отличаться от здоровых взрослых людей, но будет нелепо говорить о том, что у них нет самосознания или что они безразличны к смерти. Мы можем отказать таким людям в устройстве на работу в качестве преподавателей или хирургов, но мы не сочли бы приемлемым их использование в качестве ресурсов, даже если бы оно было «гуманным». И хотя существует множество этологических доказательств, что животные обладают значительно более сложными когнитивными способностями, чем люди с транзиторной глобальной амнезией, даже если бы они жили в «постоянном настоящем», это не означало бы, что они не обладают самосознанием, не заинтересованы в продолжении своего существования или что смерть не представляет для них вреда. Аналогичный анализ применим к тому, что Сингер называет «любой другой способностью, которая может обоснованно придавать жизни ценность». Одни люди вообще не будут обладать этой способностью, вторые будут обладать ей в меньшей степени, чем другие люди, а третьи — в меньшей степени, чем другие животные. Эти отличия могут иметь значение в некоторых вопросах, но они не позволяют нам придти к выводу, что эмпирически такой человек не заинтересован в продолжении жизни, а смерть не представляет для него вреда.
Кроме того, если мы, подобно Ригану, считаем, что смерть является для животных вредом, но все же меньшим, чем для людей, поскольку другие животные имеют меньше «возможностей для удовлетворения», мы тоже уходим от вопроса, отдавая предпочтение своему биологическому виду. В жизни много всего, что мне нравится и чем я наслаждаюсь. Но я не могу с какой-либо уверенность сказать, что у меня больше возможностей для удовлетворения, чем у любой из спасенных собак, которые живут у меня дома. Точно так же я не могу с какой-либо уверенностью сказать, что я получаю от жизни больше удовольствия, чем другой человек.
Велферистская идея о том, что люди обладают «высшими умственными способностями», также произвольна. При оценке боли других животных или в попытке определить, оправдывает ли удовольствие человека или его желание избежать боль причинение страданий другим животным, мы держим в уме, что «лучше быть недовольным человеком, чем довольной свиньей». Что, помимо нашего эгоизма, позволяет нам сказать, что человеческие качества являются «высшими», и придти к выводу, что мы, будучи счастливыми, испытываем более сильное удовольствие, чем свинья, когда она радостно плескается в грязи или играет с другими свиньями? Как и в случае с вредом смерти, такой анализ работает лишь в том случае, если мы изначально предполагаем то, что намереваемся доказать.
Если мы применим такой анализ к людям, проблема велферистского подхода станет очевидной. Если бы мы сказали, что лучше быть недовольным профессором философии, чем необразованным чернорабочим, такое заявление вполне справедливо было бы названо произвольным и элитарным. Хотя в западной философии и существует традиция придавать интеллектуальным занятиям «высшую» ценность, чем всем остальным, эта традиция появилась не в результате демократичной оценки разного рода удовольствий, а была сформирована почти исключительно учеными и другими ценителями интеллектуального труда. Идея о том, что боль и удовольствие других животных отличаются от боли и удовольствия людей, подобна идее о том, что боль и удовольствие менее умного или менее образованного человека уступают боли и удовольствию более умного и более образованного.
Что касается тех аспектов, в которых разум людей и других животных действительно отличается, эти отличия вполне могут иметь значение в определенных вопросах, равно как и отличия между отдельными людьми. Если Мэри имеет хорошие способности к математике, тогда мы можем дать ей стипендию, которую не дадим Джо, если у него таких способностей нет. Наши собаки очень любят сидеть рядом, когда мы смотрим кино, но мы не учитываем их вкусы в кинематографе, когда решаем, что посмотреть, поскольку, насколько нам известно, им все равно. Им просто нравится сидеть с нами, независимо от того, что мы смотрим. Так что некоторые отличия между разумом людей и других животных, которые имеют некоторое значение, конечно, есть. Однако эти отличия не имеют никакого логического отношения, например, к вопросу о том, можем ли мы ставить на собаках болезненные опыты или убивать их. Точно так же отсутствие способностей к математике у Джо не имеет отношения к вопросу о том, можем ли мы использовать его в опытах или в качестве донора органов. Мы не можем заявлять, что люди имеют высшую ценность в силу того, что у них больше интересов или их интересы более сильны, чем у животных, не уходя при этом от вопроса и не приводя аргументацию, которая, будучи применена в контексте людей, вполне справедливо была бы признана откровенно произвольной и элитарной.
Разработанная мной теория прав животных отвергает идею, согласно которой некоторые животные, вроде человекообразных обезьян, более достойны морального статуса или юридической защиты, чем другие животные, поскольку они более «подобны нам». Тот факт, что некоторые животные могут быть более подобны людям, может иметь отношение к вопросу о том, какими еще интересами они обладают. Но что касается их интереса в сохранении своих жизней и избежании боли, страданий и вреда, который представляет для них смерть, здесь их схожесть с людьми не имеет совсем никакого значения.
Тот факт, что разум людей отличается от разума других животных, не означает, что жизнь человека имеет более высокую моральную ценность. Точно так же жизнь здорового человека не имеет более высокой ценности, чем жизнь человека с психическими расстройствами. Жизнь образованного человека не имеет более высокой ценности, чем жизнь необразованного. И хотя отличия между людьми и другими животными могут быть важны в некоторых вопросах, они не имеют совершенно никакого значения в вопросе об этической приемлемости их использования и убийства, даже если мы делаем это «гуманно».
Как уже было сказано выше, велферистская традиция не ставит под сомнение имущественный статус животных. Велферисты предлагают регуляцию, полагая — на мой взгляд ошибочно — что она поднимет цены на продукты животного происхождения и сократит потребление, но они не предлагают отказ от института владения животными. Защитницы и защитники прав животных отстаивают для животных право не быть использованным в качестве ресурсов и заявляют, что эксплуатацию животных необходимо отменить, а не регулировать.
Нам следует хорошо понимать значение термина «право». Право — это просто способ защиты интереса. Право защищает интерес даже в том случае, если общее благосостояние может быть улучшено в случае игнорирования этого интереса. Благодаря такому объяснению должно быть ясно, почему утилитаристы так не любят права. Как мы уже видели выше, утилитаристы — это консеквенциалисты. Что правильно, а что нет, по их мнению зависит от последствий. Защитить интерес правом значит защищать его даже в том случае, если последствия не располагают к такой защите. Например, сказать, что у меня есть право на мою жизнь, значит сказать, что мой интерес в продолжении жизни защищен даже в том случае, если использование меня в болезненном и смертельном биомедицинском эксперименте приведет к открытию лекарства от рака. Многие утилитаристы не видят проблем в опытах на людях, если они достаточно уверены в выгодных последствиях. Большинство правовых философов возражают против подобного использования людей.
Право защищает интерес независимо от последствий, но это не значит, что его защита абсолютна. Например, если я имею право на свободу, это еще не значит, что я не могу лишиться свободы, если будет доказано, что я совершил преступление. Мое право на свободу означает только, что мой интерес в свободе будет защищен, даже если другим людям будет выгодно посадить меня в тюрьму.
Люди много спорят о том, какие человеческие интересы должны быть защищены правами, особенно юридическими, которые подразумевают защиту интереса при помощи государства. Но в целом люди согласны, что интерес не быть использованным исключительно в качестве чужого ресурса должен быть защищен базовым, пре-юридическим правом не быть рабом. Мы определенно не обращаемся со всеми людьми одинаково. Например, мы зачастую платим больше денег людям, которые считаются более умными или лучше играют в бейсбол. Но в вопросе использования людей исключительно в качестве ресурсов — когда речь идет о человеческом рабстве — мы считаем всех людей равными, независимо от их индивидуальных качеств. То есть мы считаем, что все люди обладают моральной ценностью, которая не обязательно требует равного обращения с ними во всех ситуациях, но требует равного обращения с их интересом не быть использованными исключительно в качестве чужих ресурсов. И мы защищаем этот интерес при помощи права, то есть мы не считаем морально приемлемым обращение людей в рабство или использование их в качестве подневольных доноров органов, даже если это увеличит всеобщее благосостояние. Рабство позволяет кому-то другому, хозяину, определять ценность фундаментальных интересов рабов, включая их интерес в жизни, свободе и в избежании страданий. Свобода от рабства является необходимым условием для обладания прочими правами. Законы каждой страны, а также нормы международного права, запрещают рабство. Это не значит, что рабства больше не существует. Оно есть, но никто не защищает его и оно всецело осуждается. Если животные имеют моральную ценность, тогда мы должны применить принцип равного уважения, этическое правило, требующее одинакового обращения с одинаковыми ситуациями. Мы должны задаться вопросом, есть ли у нас хорошая причина не признавать право не быть собственностью и за другими животными? Есть ли у нас оправдание такому использованию животных, которое мы никогда не сочли бы приемлемым в отношении людей?
Ответ очевиден. Не существует рационального оправдания для отказа признавать это единственное право за всеми чувствующими животными, как бы «гуманно» мы с ними ни обращались. До тех пор, пока животные остаются нашей собственностью, они никогда не смогут стать членами морального сообщества. Их интересы всегда будут иметь меньшую ценность, чем интересы их хозяев. Мы можем впасть в религиозные предрассудки и заявлять, что использование животных может быть оправдано тем, что у них нет души, они не созданы по образу и подобию Бога или еще как-либо уступают нам духовно. Либо мы можем заявить, что использование других животных приемлемо, поскольку мы люди, а они — нет. Но это не отличается от утверждений вроде: «мы белые, а они черные», «мы мужчины, а они женщины», «мы гетеро-, а они гомосексуальны».
Теория прав животных не означает, что одомашненные животные будут свободно бегать по улицам. Если мы начнем относиться к их интересам серьезно и признаем свое обязательство не обращаться с ними как с вещами, тогда мы полностью прекратим разведение одомашненных животных раз и навсегда. Мы будем заботиться о тех, кто уже появился на свет, но мы больше не будем разводить их ради потребления людьми, а неодомашненных животных оставим в покое. Мы прекратим есть, носить или еще как-либо использовать животных и признаем веганство ясной и строгой этической основой.
Подробнее о втором принципе Аболиционистского Подхода к Правам Животных.
Авторство: Gary L. Francione [Перевод не был проверен и одобрен].
Перевод: Денис Шаманов. Выражаю благодарность за помощь в переводе Ростиславу Чеботарёву.
Источник: Law, Culture and the Humanities 6(1) (2009)