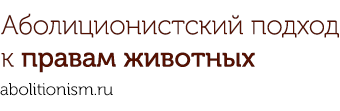Отнесемся к способности чувствовать серьезно
Введение
В 1993 г. несколько профессоров совместно работали над сборником эссе под названием «Проект Человекообразные Обезьяны». Книга сопровождалась «Декларацией о человекообразных обезьянах» с подписями этих профессоров. В ней было сказано, что человекообразные обезьяны «ближайшая родня нашего вида», и что эти животные «имеют достаточные умственные способности и эмоциональную жизнь, чтобы включить их в сообщество равных». В последние года на основе исследований и вопросов, поднятых этой инициативой и одноименной организацией, которая появилась позже, было опубликовано множество литературы, в которой обсуждается, в какой степени человекообразные обезьяны, дельфины, попугаи и возможно другие животные обладают когнитивными способностями, которые ранее считались исключительно человеческими. Среди этих способностей самосознание, эмоции и возможность общаться при помощи символов. Эта литература поднимает вопрос о том, должны ли мы теперь переосмыслить наши отношения с теми животными, которые обладают этими способностями, и придать им большую моральную ценность и юридическую защиту. Проект Человекообразные Обезьяны сделал популярной теорию, которую я называю «теорией схожих разумов».
Подход схожих разумов породил целую индустрию когнитивных этологов, жаждущих исследовать, насколько они подобны нам. Иронично, что их исследования зачастую подразумевают самые разнообразные опыты над животными. Обратной стороной теории схожих разумов является тот факт, что те животные, которые способны чувствовать, но не обладают другими когнитивными способностями, продолжают оставаться вещами, с которыми хоть и следует обращаться «гуманно», но не так, как мы должны обращаться с теми животными, чей разум подобен нашему.
Я сам был одним из тех профессоров. Я написал эссе для «Проекта Человекообразные обезьяны» и поставил подпись под Декларацией. Тем не менее в своем эссе и гораздо подробнее в своих последующих работах, особенно в книге «Introduction to Animal Rights: Your Child or the Dog?», я заявлял, что способность чувствовать является единственным необходимым условием для признания статуса личности, никакие другие когнитивные способности для этого не требуются.
Сторонники теории схожих разумов представляют ее прогрессивной, поскольку она якобы позволяет включить в сообщество равных по крайней мере некоторых животных. Такое представление ошибочно, поскольку на самом деле все наоборот: эта теория способствует лишь исключению из морального сообщества буквально всех животных. Проблема заключается в попытке связать моральную ценность с когнитивными способностями. Несмотря на то, что теория схожих разумов кажется современным феноменом, идея о взаимосвязи моральной значимости с когнитивными возможностями помимо способности чувствовать не является чем-то новым. На самом деле в той или иной форме эта идея присутствует в философии уже очень давно, и именно она в значительной степени ответственна за нынешнее положение животных.
В этом эссе я очень кратко обсуждаю историю этой идеи. Затем я приведу несколько аргументов, согласно которым мы должны отказаться от этой теории и признать полноправное членство в моральном сообществе на основе исключительно способности чувствовать.
I Бентам, способность чувствовать и использование животных
До девятнадцатого столетия животные с точки зрения этики в основном рассматривались в качестве вещей, а не личностей, поскольку люди считали, что у них отсутствует некоторая якобы исключительно человеческая характеристика, которая качественно нас отличает и лишает других животных моральной ценности. От досократиков до Платона и Аристотеля, от Средних Веков и Фомы Аквинского до эпохи Просвещения и Декарта, Локка и Канта философы утверждали, что в отличие от людей другие животные не рациональны, не осознают себя, не обладают абстрактным мышлением, не могут пользоваться языком и неспособны на взаимную моральную обеспокоенность в отношении людей.
Исходя из этих предположительных отличий, философы приходили к выводу, что люди не могут иметь перед другими животными прямых моральных обязательств, и что этика не может распространяться на последних. Если у людей и были какие-либо обязательства относительно животных, то это были обязательства перед другими людьми. Моральное обязательство не причинять животным вреда без всякой на то причины на самом деле было обязательством перед другими людьми, поскольку считалось, что дурное обращение с животными приводит к дурному обращению с людьми. Аналогичным образом до девятнадцатого века практически не было законов, которые устанавливали бы юридические обязательства перед животными. Существовавшие в то время законы, которые затрагивали животных, на самом деле устанавливали юридические обязательства перед владельцами этих животных.
Прогрессивные социальные движения, потребовавшие признания прав женщин и отмены человеческого рабства, заявляли, что мы имеем перед животными моральные обязательства, которые никак не связаны с вопросом о том, как обращение с ними затрагивает других людей. Вопросами обращения с животными занимались многие философы и активисты, но особенно важную и влиятельную роль сыграл британский юрист и философ Джереми Бентам (1748-1832). Бентам выступил против идеи, согласно которой мы можем исключить других животных из морального сообщества и обращаться с ними как с вещами, поскольку им недостает некоторых особенностей, которые мы считаем необходимыми для распространения на них этики. Согласно Бентаму:
Взрослая лошадь или собака несравненно более рациональна и общительна, чем младенец, которому день, неделя или даже месяц отроду. Но даже если бы было иначе, что с того? Вопрос ведь не в том, могут ли они рассуждать? могут ли они говорить? но в том, могут ли они страдать?
Таким образом Бентам разорвал связь между моральным статусом и когнитивными способностями, которая преобладала в Западной философии относительно животных в течение нескольких тысячелетий. Он установил, что способность чувствовать является единственной необходимой характеристикой для членства в моральном сообществе. Или нет?
Исходя из идеи исключительной важности способности чувствовать, Бентам не пришел к выводу о том, что мы должны прекратить использование и убийство животных в интересах людей. Несмотря на то, что он открыто заявлял, что для обладания моральной значимостью рациональность и владение языком не являются необходимыми, Бентам определенно не считал когнитивные отличия между людьми и другими животными совершенно неважными. Он считал, что в отличие от людей другие животные не обладают самосознанием и чувством будущего. Это не значит, что мы можем игнорировать их страдания, но это значит, что они не заинтересованы в сохранении собственной жизни, а потому мы можем продолжать использовать их. Бентам заявлял:
Что касается употребления животных в пищу, есть хорошая причина, по которой нам должно быть дозволено есть тех, кого мы захотим: нам от этого лучше, а им никогда не хуже. У них нет наших долгих ожиданий будущих страданий <…> и им никогда не хуже от смерти.
Согласно Бентаму, животных не волнует их использование и убийство в наших интересах, если мы не причиняем им чрезмерных страданий. Он не ставил под сомнение статус животных в качестве собственности, поскольку не считал само по себе владение животными и их использование в человеческих интересах аморальным. Бентам видел основную проблему не в самом по себе использовании животных, а в том, как мы их используем.
В следующем разделе мы обсудим, как имущественный статус животных привел к тому, что революционный призыв Бентама относительно способности чувствовать оказался довольно бессмысленным. Несмотря на то, что Бентам попытался разорвать связь между моральным статусом и когнитивными способностями, на самом деле он просто переизобрел ее в новой форме.
II Общепринятые нормы и благополучие животных
Взгляды Бентама заключены в принципах заботы о благополучии животных, которые отражены в общепринятых нормах относительно моральных обязательств перед другими животными. Согласно этим нормам, мы можем использовать животных в своих интересах, но поскольку они способны страдать, мы должны относиться к их страданиям серьезно и не обращаться с ними как с просто вещами. Большинство согласно, что причинять животным страдания «без необходимости» аморально, и что мы обязаны обращаться с животными «гуманно». Эта идея настолько широко распространена, что появившиеся в девятнадцатом веке в Британии уголовные законы теперь стали повсеместными. Эти законы предполагают уголовное наказание тех людей, которые обращаются с животными «негуманно» или причиняют им страдания «без необходимости». Короче говоря, этическая теория Бентама о важности способности чувствовать стала общепринятой и была закреплена в законах. И это серьезная проблема.
Исследование условностей заботы о благополучии животных вскрывает ее противоречия. Чтобы запрет причинения животным неоправданных или бессмысленных страданий имел хоть какой-то смысл, он должен предполагать недопустимость причинения им страданий ради нашего удовольствия, развлечения или удобства. Но подавляющее большинство убийств и страданий, которые мы причиняем другим животным, объясняется исключительно нашим удовольствием, развлечением и удобством. Никаким образом нельзя назвать это «необходимостью».
Например, нет никакой необходимости в употреблении продуктов животного происхождения в пищу. На самом деле все чаще можно услышать, что эти продукты вредны для нашего здоровья. Кроме того, животноводство крайне пагубно влияет на окружающую среду. Ежегодно только в Соединенных Штатах мы убиваем более десяти миллиардов сухопутных животных, причиняя им чудовищную боль и страдания, и наше единственное оправдание заключается в том, что нам вкусно. Не может быть никакой необходимости в эксплуатации животных ради развлечения или спортивной охоты. Единственная сфера, в которой может быть приведен аргумент о необходимости — это опыты над животными для разработки лекарств от серьезных болезней. И хотя претензии на необходимость в данном контексте тоже сомнительны, это единственная сфера использования животных, которая не предполагает убийство животных и причинение им страданий по совершенно тривиальным причинам.
Когда речь заходит о животных, мы страдаем от некоторого рода «моральной шизофрении». С одной стороны мы заявляем, что относимся к их страданиям серьезно, и что считаем причинение страданий без необходимости аморальным. Но с другой стороны подавляющее большинство случаев использования животных — и их страдания в результате этого использования — не могут быть названы необходимыми ни в каком разумном смысле этого слова. Многие из нас живут с животными и считают их членами своей семьи. Но несмотря на это, мы втыкаем вилки в других животных, которые ничем не отличаются от тех, которых мы любим.
Наша моральная шизофрения относительно других животных связана с их статусом в качестве нашей собственности. Мы хоть и заявляем о том, что относимся к интересам животных серьезно, они неизбежно остаются не более чем вещами, поскольку они являются товарами, которыми мы владеем. Их ценность определяется нами. В книге «Animals, Property, and the Law» я утверждал, что законы о благополучии животных предполагают необходимость установления баланса между интересами людей и других животных для принятия решения о допустимости того или иного использования животных или обращения с ними. Но подобный баланс невозможен, поскольку на одной чаше весов находятся интересы хозяина, а на другой — интересы его собственности. Результат установления этого баланса изначально предопределен имущественным статусом животных. Животное всегда оказывается «скотом», «добычей», «питомцем», «лабораторным животным» или любой другой разновидностью собственности, которая существует исключительно для нашего использования и обладает исключительно той ценностью, что мы решили ей придать.
Поскольку животные являются нашей собственностью, за ними не признается никакой неотъемлемой или внутренней ценности. Если нам это выгодно, то в целом мы можем игнорировать любые их интересы. Если это считается необходимым согласно нормам определенной сферы институциональной эксплуатации, то мы можем подвергать животных ужасающей боли и страданиям, что несомненно было бы сочтено пытками, если бы так обращались с людьми. Например, телята заинтересованы в том, чтобы не быть кастрированными без анестезии или заклеймены раскаленным железом — это очень болезненные процедуры. Но они считаются «необходимыми», поскольку это «нормальные» сельскохозяйственные практики. «Страдания» хозяев собственности, которые не смогут использовать свою собственность так, как им хочется, имеют больший вес, чем страдания животных. Требование «гуманного» обращения с животными и запрет на причинение им страданий «без необходимости» на самом деле является не более чем предписанием не причинять им больше страданий и боли, чем необходимо для эффективного использования. Интересы животных при этом не наделяются какой-либо внутренней ценностью.
И хотя мы несомненно могли бы обращаться с животными лучше, чем мы делаем это сейчас, их имущественный статус является мощным препятствием на пути хоть сколько-нибудь значительного улучшения. Кроме того, как я утверждал в своей книге «Rain Without Thunder: The Ideology of the Animal Rights Movement», не существует никаких эмпирических свидетельств в пользу того, что реформы эксплуатации животных приведут к отмене их эксплуатации. На самом деле создается впечатление, что эти реформы практически никак не сокращают страдания животных, а основной эффект от их принятия заключается в том, что люди теперь могут участвовать в эксплуатации животных с большим комфортом. Законы о благополучии животных существуют уже более двухсот лет, а мы сегодня эксплуатируем больше животных, чем когда-либо в истории.
В итоге, несмотря на то, что общепринятые этические и юридические нормы якобы отвергают связь между когнитивными способностями и моральным статусом, считая способность чувствовать единственной способностью, которая имеет моральную значимость, имущественный статус животных прочно основан на идее о том, что животные, в отличие от людей, не заинтересованы в сохранении собственной жизни в силу своих когнитивных отличий. Так что мы хоть и разорвали эту связь в одном смысле, мы укрепили ее в другом, согласившись, что предполагаемые когнитивные отличия оправдывают такое использование животных, на которое мы никогда не согласились бы, если бы речь шла о людях. В итоге признание важности способности чувствовать как в сфере этики, так и в сфере юриспруденции не привело к какому-либо изменению парадигмы нашего обращения с другими животными. На самом деле некоторые из наиболее шокирующих разновидностей эксплуатации животных, включая интенсивное сельское хозяйство, которое еще называют «промышленным животноводством», появились в последние сто лет — как раз тогда, когда мы заявили, что теперь мы якобы разделяем более просвещенные ценности относительно морального статуса других животных и признаем свои моральные и юридические обязательства перед ними.
III Проблема теории схожих разумов
Основное отличие последней итерации подхода схожих разумов в виде Проекта Человекообразные Обезьяны и аналогичных инициатив от идей Бентама, которые стали основой общепризнанной велферистской теории, заключается в том, что, согласно современным этологическим исследованиям, разум некоторых животных возможно достаточно похож на наш, а значит они должны быть наделены более серьезной этической и юридической защитой. Возможно, пришло время поставить под сомнение саму идею взаимосвязи между моральной ценностью животных и их когнитивными способностями, помимо способности чувствовать, а не пытаться определить, обладают ли они теми или иными способностями в достаточной степени, чтобы признать за ними моральную ценность и наделить юридической защитой.
Прежде всего стоит обратить внимание, что теория схожих разумов в некотором смысле совершенно абсурдна. Найдется ли человек, который живет с кошкой или собакой, но не признает за этими животными разума, самосознания или эмоциональной жизни, несмотря на то, что они отличаются от нас гораздо сильнее, чем обезьяны? Мы с моей супругой живем с пятью спасенными собаками. Если кто-то спросит нас, обладают ли наши собаки такими ментальными характеристиками, то этот вопрос покажется нам таким же странным, как вопрос о том, есть ли у них хвосты. Это не вопрос антропоморфизма, приписывания человеческих качеств без эмпирических оснований. Просто обоснованное и последовательное объяснение поведения этих животных невозможно без опоры на концепцию разума. Возможно, они не могут находиться в таких умственных состояниях, которые сделали бы возможным общение символами, но они несомненно могут испытывать такие когнитивные состояния, которые мы могли бы назвать эквивалентами веры, желания и прочего.
Кроме того, со времен Дарвина прошло уже 150 лет и это просто поразительно, что мы до сих пор удивляемся наличию у других животных таких черт, которые ранее считались исключительно человеческими. Предположение о том, что люди обладают когнитивными способностями, которые совершенно отсутствуют у других животных, не соответствует теории эволюции. Дарвин утверждал, что исключительно человеческих черт не существует: «Отличия между разумом человека и высших животных огромны, но они определенно количественные, а не качественные». То есть Дарвин признавал, что отличия между разумом человека и разумом других животных количественные, но не качественные. Он утверждал, что другие животные способны думать и испытывать множество эмоций, как и люди. Это не значит, что между животным, которое использует общение символами, и животным, которое на это неспособно, нет значительной разницы. Это значит, что разница между ними не является качественной, то есть когнитивные способности одного животного имеют свои эквиваленты у другого.
И хотя я убежден, что другие животные обладают способностями, которые мы считаем исключительно человеческими, я вынужден признать, что в этом вопросе нет единого мнения, и, как бы то ни было, между нашим разумом и разумом животных, которые не пользуются языком, несомненно есть разница. Однако есть по крайней мере две причины отказаться от идеи, согласно которой одной только способности чувствовать недостаточно для участия в моральном сообществе. Одна из них практическая и касается вопроса о том, способна ли теория схожих разумов привести к хоть сколько-нибудь значимым переменам хотя бы для тех животных, чьи когнитивные способности действительно очень схожи с нашими. Другая — теоретическая и касается неспособности этой теории ответить на фундаментальный этический вопрос о необходимости наличия каких-либо когнитивных способностей, кроме способности чувствовать, для полноценного участия в моральном сообществе.
А. Подход схожих разумов: дальнейшая задержка справедливости?
Весьма вероятно, что теория схожих разумов лишь отложит обсуждение наших этических и юридических обязательств перед другими животными на неопределенное время, в течение которого мы будем накапливать эмпирические свидетельства, необходимые для установления степени схожести разума определенных животных с нашим. Но даже когда в этой схожести не остается совершенно никаких сомнений, мы просто игнорируем ее и все равно продолжаем их эксплуатировать. Например, схожесть между людьми и шимпанзе совершенно очевидна. Они имеют 98,5% нашей ДНК и культурную и ментальную жизнь, которая очень схожа с нашей. Нам уже очень давно известна эта схожесть. Вообще весь смысл «Проекта Человекообразные Обезьяны» заключался в том, чтобы предоставить крайне веские доказательства отсутствия между нами релевантных отличий в вопросе включения их в моральное сообщество. Тем не менее мы все равно продолжаем держать их в заключении в зоопарках и использовать в био-медицинских опытах. Даже Джейн Гудолл, которую в этой книге описали как «женщину, которая заставила людей признать шимпанзе в качестве личностей с разными характерами и сложными социальными отношениями», отказалась призывать к полному запрету использования этих животных.
Связанная с этим проблема заключается в том, что теория схожих разумов не уточняет степень, в которой животные должны обладать той или иной способностью, чтобы мы признали их достаточно «подобными нам» в вопросе моральной ценности. Например, «появляется все больше свидетельств, согласно которым попугаи, как шимпанзе и дельфины, способны освоить сложные интеллектуальные концепции, на что неспособны большинство людей до достижения пятилетнего возраста». Исторически мы считали способность к абстрактному мышлению исключительно человеческой, качественным отличием между нами и другими животными. Теперь нам стало известно, что мы, скорее всего, ошибались, поскольку попугаи и другие животные тоже способны к некоторого рода абстрактному мышлению. Но мы все равно продолжаем торговать попугаями в зоомагазинах. Насколько умным должен быть попугай, чтобы мы согласились включить его в моральное сообщество? Может быть он должен продемонстрировать абстрактное мышление на уровне восьмилетнего ребенка? Двенадцатилетнего? Некоторые шимпанзе продемонстрировали способность пользоваться человеческим языком. Насколько богатым должен стать их словарный запас и способность оперировать синтаксисом, чтобы мы согласились, что их разум достаточно подобен нашему?
Проблема этой игры с особыми способностями заключается в том, что другие животные никогда не смогут выиграть. Когда оказывается, что попугаи способны мыслить абстрактно и оперировать однозначными числами, мы начинаем требовать от них понимания и оперирования двузначными. Когда шимпанзе ясно демонстрирует богатый словарный запас, мы требуем от нее определенных уровней владения синтаксисом. Ирония в том, что какую бы способность мы ни выбрали, некоторые животные будут владеть ей в большей степени, чем некоторые люди, но мы никогда не сочтем допустимым использовать этих людей так, как используем других животных.
Есть основания для беспокойства, что теория схожих разумов на самом деле является теорией идентичных разумов, которая никогда не допустит животных в моральное сообщество, если только их разум не окажется абсолютно идентичным нашему. Но даже в таком случае нет никаких гарантий, что мы не будем их дискриминировать. В конце концов, в девятнадцатом веке расисты опирались на френологию, «науку», согласно которой можно определить личные черты по форме черепа. Они заявляли, что разум небелых, евреев и других людей отличается. Так что даже при условии наличия совершенно идентичного разума, этого может оказаться недостаточно, если найдется повод и желание участвовать в дискриминации. Учитывая весьма вероятные отличия между разумом животных, которые общаются символами, и разумом животных, которые этого не делают, теория схожих разумов оказывается лишь рецептом для продолжения угнетения, пока мы находимся в поиске, который, возможно, никогда не завершится, особенно если нашей мотивацией служит желание продолжать потреблять продукты животного происхождения.
Б. Подход схожих разумов: уход от вопроса
Даже если бы теория схожих разумов действительно приводила к признанию статуса личности за некоторыми животными, вроде человекообразных обезьян или дельфинов, то что насчет огромного числа животных, которые никогда не смогут продемонстрировать владение языком или другие способности, которые мы ассоциируем с человеческим разумом? Подход схожих разумов хоть и заявляет, что эмпирически мы могли ошибаться относительно по крайней мере некоторых животных, которые все же обладают вышеупомянутыми способностями, но этот подход не отвечает на фундаментальный этический вопрос, лежащий в его основе. Почему для обладания правом не быть использованными исключительно в качестве средств достижения человеческих целей другие животные должны обладать какими-либо способностями, помимо способности чувствовать?
Теория схожих разумов изначально избегает этого вопроса, просто предполагая, что определенные способности являются особыми и оправдывают разное обращение. Например, мы заявляем, что люди (и, возможно, некоторые человекообразные обезьяны) являются единственными животными, которые узнают себя в зеркале. Даже если это действительно так, какое этическое значение несет это предположение? Спасенная мной бордер-колли быть может и не узнает себя в зеркале, но она может прыгнуть на шесть футов вверх из сидячего положения. Я так не умею и, насколько мне известно, ни один человек не умеет. Птицы могут летать без самолета, а люди — нет. Рыбы могут дышать под водой без акваланга. Теория схожих разумов изначально ошибочна, поскольку исходит из предположения о том, что наши способности имеют большую моральную ценность, чем их способности. Единственное возможное обоснование такой позиции заключается в том, что это мы так сказали и это в наших интересах.
Кроме того, даже если бы ни одно животное, кроме человека, не обладало определенной когнитивной способностью, за исключением способности чувствовать, или обладало ей в меньшей степени или в другой форме, такое отличие не может служить оправданием использования животных в качестве вещей. Вполне возможно, что отличия между нами могут иметь значение в других вопросах. Например, никто не утверждает, что животные должны водить автомобили или поступать в университеты. Однако эти отличия не имеют и не должны иметь значения в вопросе о том, допустимо ли есть животных или использовать их в опытах. Это очевидно в ситуациях, в которых речь идет исключительно о людях. Какую бы способность мы ни выбрали в качестве исключительно человеческой, некоторые люди будут обладать ей в меньшей степени, а другие не будут обладать ей вовсе. Некоторые люди окажутся совершенно в том же положении, которое мы предписываем другим животным. Эти отличия могут иметь значение в некоторых вопросах, но они не имеют никакого отношения к вопросу о том, можем ли мы обратить этих людей в рабство или еще как-либо использовать их в качестве товаров, лишенных неотъемлемой ценности.
Взять, например, самосознание. Похоже, что любое чувствующее существо должно обладать самосознанием, поскольку быть чувствующим значит быть таким существом, которое осознает, что это именно оно испытывает боль или страдание, а не кто-то другой. Биолог Дональд Гриффин писал, что если животное способно осознать что-либо, тогда «само тело животного и его действия должны попадать в сферу его чувственного осознания». Но мы все равно продолжаем отрицать самосознание у других животных, поскольку, как мы утверждаем, они не могут «думать такие мысли, как „Это я сейчас бегу, или карабкаюсь по дереву, или ловлю бабочку“». Гриффин утверждает, что,
когда животное осознанно воспринимает бег, карабканье или ловлю бабочек другими животными, оно должно осознавать, кто делает это. И если животное осознанно воспринимает свое тело, тогда сложно исключить аналогичное осознание, что это оно само бежит, карабкается или ловит.
Гриффин приходит к выводу, что, «если животные способны к чувственному осознанию, тогда отказ признавать за ними некоторое самосознание кажется произвольным и неоправданным». Как я писал ранее, «когда собака испытывает боль, она неизбежно переживает ментальный опыт, который говорит: „эта боль происходит со мной“. Чтобы боль вообще существовала, некоторое сознание — кто-то — должен воспринимать ее, как происходящую с ним, и должен предпочитать прекратить ее».
Но даже если мы понимаем самосознание в совершенно антропоцентричном смысле в качестве способности иметь «осознанный опыт, <…> существование и суть которого доступны для осмысления (то есть доступны для описания в актах мышления, которые сами становятся доступными для дальнейших актов мышления)», в таком случае многие люди с серьезными ментальными расстройствами окажутся лишенными самосознания. Отсутствие такой разновидности самосознания, которую мы приписываем здоровым взрослым людям, может иметь значение в некоторых вопросах. Например, мы можем отказать в выдаче водительского удостоверения человеку с ментальными расстройствами. Тем не менее отсутствие такой разновидности самосознания не имеет никакого отношения к вопросу о том, можем ли мы, например, использовать этих людей в болезненных био-медицинских опытах. Какую бы способность мы ни выбрали, одни люди будут обладать ей в меньшей степени, чем некоторые животные, а другие не будут обладать ей вовсе. Отсутствие этой способности может иметь значение в некоторых вопросах, но оно не имеет значения в вопросе использования человека в качестве вещи, чьи фундаментальные интересы могут быть проигнорированы ради нашей выгоды.
Как я писал выше, на первый взгляд Бентам хоть и отказывался от идеи, согласно которой моральный статус животных зависит от того, насколько их разум подобен нашему, она все равно в итоге стала частью его теории в виде допустимости использования и убийства животных, поскольку они якобы не заинтересованы в сохранении собственных жизней. Соавтор «Проекта Человекообразные Обезьяны» Питер Сингер рассуждает точно так же. Он утверждает, что способность чувствовать хоть и является единственно необходимой для признания моральной ценности существа, к чьим страданиям мы должны относиться со всей серьезностью, он все равно считает допустимым их использование, поскольку животные, за возможным исключением человекообразных обезьян, не обладают чувством будущего и заинтересованностью в продолжении жизни. Согласно Сингеру, «животные могут бороться за свою жизнь», но это не означает, что они могут «уловить смысл обладания „жизнью“ так, как того требует понимание, что означает существование в течение отрезка времени». Он заключает, что «в отсутствие некоторой разновидности ментальной непрерывности будет непросто объяснить, почему потеря жизни убитого животного, с беспристрастной точки зрения, не может быть компенсирована созданием нового животного, которое проживет такую же приятную жизнь». Как и Бентам, Сингер утверждает, что само по себе использование других животных не является этической проблемой. Проблемой являются страдания, связанные с этим использованием. Он заявляет, что мы можем применить принцип равного уважения, согласно которому мы должны одинаково обращаться с одинаковыми интересами, к интересам других животных в избежании страданий, и что для применения этого принципа нет никакой необходимости в отмене их имущественного статуса.
Позиция Бентама и Сингера, согласно которой животные эмпирически не заинтересованы в сохранении своих жизней, основана на проблематичном понимании самосознания. Любое чувствующее существо неизбежно должно обладать им. Любое чувствующее существо неизбежно должно быть заинтересовано в сохранении своей жизни, поскольку способность чувствовать является средством для продолжения существования. Просто нелепо заявлять, что чувствующее животное не заинтересовано в продолжении собственного существования и не предпочитает, не хочет или не желает жить.
Согласно позиции Бентама и Сингера, существо, будь то человек или другое животное, заинтересовано в продолжении собственного существования лишь в том случае, если оно обладает автобиографичным чувством себя и способно размышлять о собственной жизни. Однако нет никаких причин связывать такое ментальное состояние с вопросом о допустимости использования кого-либо в качестве ресурса. Например, существуют люди с транзиторной глобальной амнезией, не обладающие чувством прошлого или будущего, но обладающие при этом очень отчетливым чувством себя в отношении событий и объектов, существующих в настоящем. Они обладают самосознанием, но оно отличается от самосознания взрослых людей без амнезии. Такое отличие может иметь значение в некоторых вопросах. Например, мы могли бы отказать человеку, лишенному автобиографичного чувства себя, в бюджетном месте в университете, поскольку вряд ли такому человеку пригодится высшее образование. Однако никто не станет утверждать, что эти люди не заинтересованы в сохранении собственной жизни. Наличие транзиторной глобальной амнезии не имеет отношения к вопросу о том, можем ли мы использовать этих людей в качестве товаров, жертвуя их фундаментальными интересами ради своей выгоды.
Подводя итог, подход схожих разумов ошибочен на фундаментальном уровне и в лучшем случае способен лишь создать новые спесишистские иерархии, в которых некоторые животные, вроде человекообразных обезьян или дельфинов, возможно будут выделены в особую группу, но все остальные животные по-прежнему останутся в статусе вещей, лишенных морально значимых интересов. Эта теория не объясняет, почему способность чувствовать не является достаточным условием для обладания моральной значимостью. Она просто предполагает, что некоторая якобы исключительно человеческая черта является пропуском в моральное сообщество.
IV Человеческое рабство и животные в качестве собственности
Если бы мы полностью отказались от теории схожих разумов, включая позицию Бентама и Сингера, и для полного участия в моральном сообществе потребовали исключительно способности чувствовать, тогда мы бы прекратили использовать других животных в качестве нашей собственности. Как я утверждаю в книге «Introduction to Animal Rights», мы не защищаем людей от всех возможных страданий, но мы запрещаем такое причинение страданий, которое связано с их использованием исключительно в качестве ресурсов. Мы признаем базовое право не быть использованными в качестве собственности за всеми людьми независимо от их личных характеристик. Мы считаем человеческое рабство неприемлемым, каким бы «гуманным» оно ни было.
Бентам выступал против рабства и, как я писал в других работах, вполне вероятно, что по крайней мере отчасти он руководствовался идеей о том, что принцип равного рассмотрения интересов не может быть применен к рабам. Интересы рабов всегда будут цениться меньше интересов их хозяев. Однако Бентам не увидел аналогичной проблемы в имущественном статусе животных. Если другие животные заинтересованы в сохранении собственных жизней, тогда их использование в ситуациях, в которых мы никогда не согласились бы использовать людей, неизбежно лишает их интересы равного рассмотрения.
Кроме того, даже если бы было возможно обоснованно утверждать, что другие животные не заинтересованы в продолжении собственного существования, применение принципа равного рассмотрения к их интересу в избежании страданий — и без того очень сложное в силу необходимости межвидового сравнения — становится еще сложнее, если животные являются нашей собственностью. Их имущественный статус служит в качестве «обоюдоострого меча, направленного против их интересов». Такой статус изначально препятствует рассмотрению интересов человека и других животных на равных. Но даже если мы признаем схожесть наших с ними интересов, то этот статус все равно подчиняет их интересы нашим, поскольку имущественный статус сам по себе всегда является достаточной причиной для отказа в равном обращении.
Не существует лишенного спесишизма объяснения, согласно которому полное участие в моральном сообществе не требует запрета рабства животных, аналогичного запрету человеческого рабства. Мы должны прекратить эксплуатацию других животных, а не просто регулировать ее. Мы должны прекратить разводить одомашненных животных в качестве средств достижения наших целей.
Заключение
Теория схожих разумов не нова. Она существует уже много лет в виде разнообразных попыток связать когнитивные характеристики с членством в моральном сообществе. В течение всех этих лет она служила главным теоретическим основанием для исключения других животных из этого сообщества. Согласившись с принципом, согласно которому способность страдать является единственной необходимой способностью для обладания моральным и юридическим значением, мы будто бы отказались от этой связи. Но эта теория вернулась в виде идеи, согласно которой другие животные, в отличие от людей, не заинтересованы в сохранении собственных жизней, что объясняет, почему мы не отказались от имущественного статуса животных, когда пытались применить этот принцип в этической и юридической сферах. Мы хоть и заявляем, что относимся к интересам животных серьезно, но все равно обращаемся с ними как с вещами.
Вопрос о схожести или идентичности разума людей и других животных может быть интересен с научной точки зрения, но он не имеет никакого значения с точки зрения этики. Если мы хотим относиться к интересам других животных серьезно, то у нас нет другого выбора, кроме как признать, что значение имеет только способность чувствовать. Это значит, что мы должны пойти на шаг дальше Бентама и признать, что имущественный статус животных неизбежно подразумевает теорию схожих разумов, которая не позволяет рассмотреть их интересы серьезно или уж тем более на равных. Нам следует забыть теорию схожих разумов. Она лишь способствует путанице в рассуждениях об отношениях между людьми и другими животными. Она является средством поддержания спесишизма и угнетения. Зоозащитные инициативы должны быть направлены на веганскую агитацию и последовательное уничтожение имущественного статуса животных.
Подробнее о четвертом принципе Аболиционистского Подхода к Правам Животных.
Авторство: Gary L. Francione [Перевод не был проверен и одобрен].
Перевод: Денис Шаманов. Выражаю благодарность за помощь в переводе Ростиславу Чеботарёву.
Источник: Gary L. Francione, “Taking Sentience Seriously,” Journal of Animal Law and Ethics, vol. 1, 1-18 (2006) and reprinted in Gary L. Francione, Animals as Persons: Essays in the Abolition of Animal Exploitation (Columbia University Press, 2008) 129-147.